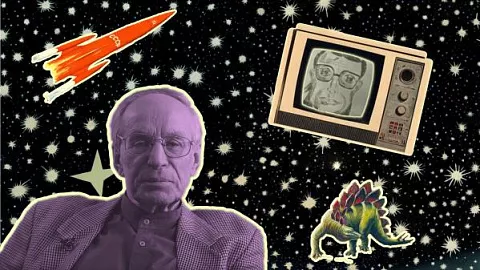В БФУ им. И. Канта учится и работает огромное количество людей, про которых можно написать если не книгу, то хотя бы небольшой материал. Наш сегодняшний герой — Илья Максимов не только преподает в университете, но и когда-то его закончил. Доцент Института образования и гуманитарных наук, кандидат исторических наук рассказал в интервью о природе интереса к истории, своем опыте игры в «Что? Где? Когда?» и любви к советским анекдотам.
— В одном интервью вы сказали, что у детей есть природный интерес к истории, так как она похожа на захватывающий сериал с поворотами и интригами. Чем для вас была история, когда вы были ребенком?
— Я могу сказать шире, что природный интерес у ребенка в общем-то есть ко всему. Особенно в раннем возрасте. Поэтому мы можем на этот интерес опираться и развивать его. Если ребенку рассказать про бабочек или двигатель мерседеса, это его тоже может увлечь.
У меня тяга к истории была столько, сколько я себя помню. Наверное, это было обусловлено наличием дома соответствующих детских книг, в том числе исторических. Моя мама учитель русского и литературы. В Советском Союзе большое внимание уделялось патриотическому воспитанию и педагогике. Была такая серия книг «Страницы истории нашей Родины»: детские книжечки в мягком переплете о разных исторических событиях, описанных легким языком, при этом очень качественным.
На самом деле, чем меньше возраст ребенка, тем сложнее ему доступно и интересно объяснить историю, не прибегая к научному языку. Одни из самых ярких воспоминаний у меня связаны с книгой «Сказание о Евпатии Коловрате».
— То есть вас интересовала именно история Руси?
— Я думаю, если бы у меня было что-то про войну американцев за независимость или Фернана Магеллана, мне было бы так же любопытно. Просто это была хорошо написанная книга, где были картинки, битвы, хан Батый, «покоряющий земли русские». Таких книг было много, но эта мне запомнилась лучше всех, а еще мне нравилась замечательная книга советского писателя Олега Орлова «Как Суворов перешел через Альпы».
— Это документалистика или что-то околохудожественное?
— Это были детские художественные произведения. Тогда не было большого количества исторических музеев. Сейчас возможностей формировать у школьников познавательный интерес гораздо больше: не надо рассказывать на пальцах, как выглядела средневековая деревня, если можно поехать на Ушкуй или Кауп в деревню викингов и там на фестивале окунуться в атмосферу того времени. Вы можете сегодня посмотреть любые фильмы об отечественной и мировой истории.
— Даже в игру поиграть.
— Да, тоже хороший вариант. А тогда, конечно, основным способом было чтение. Такого, чтобы мы именно по историческим музеям ходили, я не помню. На пятом форту, например, тогда вообще было небезопасно находиться. Что говорить о каком-либо музейном пространстве?

— Вы сами подпитывали в себе интерес к истории или этому кто-то способствовал?
— Трудно сказать. Наверное, и то и другое. Когда я задавал родителям вопросы об истории, они в силу своих возможностей на них отвечали. Вообще я очень много читал. Когда стал постарше, взялся за приключенческую литературу. Она ведь тоже существует и развивается в контексте истории. Одним из любимых писателей детства у меня был Жюль Верн. Наверное, я не могу сказать, что я сам подпитывал свой интерес. В таком возрасте очень сложно сознательно направлять себя. Я сейчас осознаю, что мое чтение было хаотичным, бессистемным.
Если бы я сам собой руководил, то выстраивал книги в хронологическом порядке, между ними бы вставлял какой-нибудь соответствующий фильм. Пожалуй, главное, что этот интерес у меня появился и никто его потом не отбил. А что касается родителей, то здесь, конечно, главная заслуга заключается в том, что они привили мне любовь к чтению. Сколько я себя помню, я всегда был с книжкой. Родители говорят, что я читал с четырех лет.
— Вас что-то привлекало кроме исторической литературы?
— Приключения. У меня была такая, наверное, странная для современного поколения мечта: прочитать все романы Жюля Верна. Я тогда узнал, что их 66.
— Она сбылась?
— Нет. И уже, видимо, никогда не сбудется. В городской библиотеке тогда было всего 15 его романов, которые я прочитал. Когда я вырос, и появилась возможность читать и все остальное, я был, конечно, очень разочарован. Потому что Жюль Верн — писатель для определенного возраста. Когда я перечитал «Пятнадцатилетнего капитана», то я понял, что я не буду браться за остальные романы.
— У вас был какой-то любимый исторический хронологический период? Например, Древняя Греция, Рим, Египет?
— Нет, не могу такого выделить. Все, что попадалось, все читалось. Я помню, в начале пятого класса заболел и неделю провалялся в больнице. Чтобы не скучно было, я читал учебник по истории древнего мира. И вот там все, от Египта до покорения Рима варварами, вызывало у меня интерес. Здесь скорее стоит сказать не о хронологическом разделе, а тематическом. Конечно, вопросы архитектуры, литературы или театра древней Греции меня увлекали меньше, а вот Ганнибал, Пунические войны, приключения, соревнования…
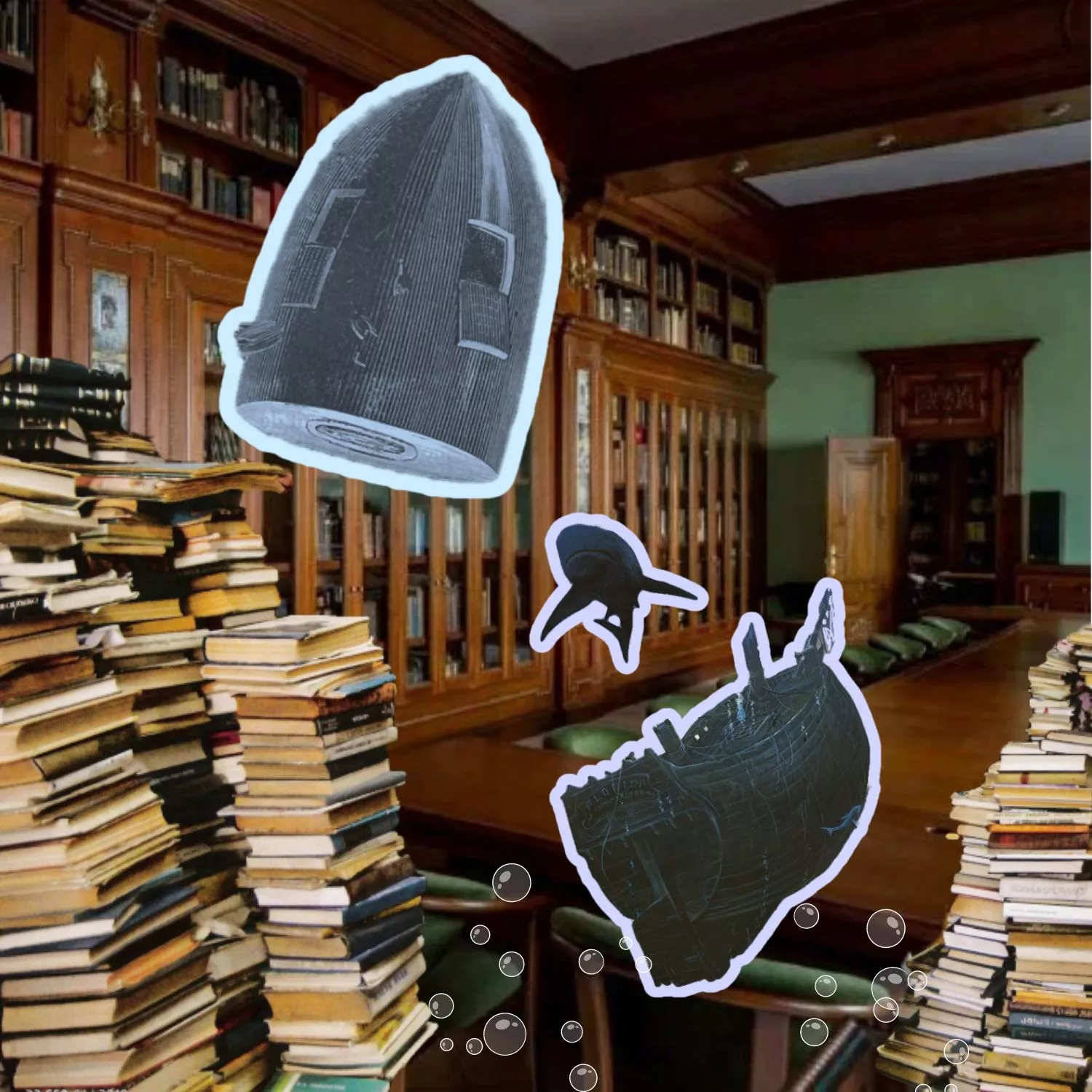
— На парах вы часто шутите, рассказываете исторические анекдоты. Как вам кажется, чувство юмора для историка — необходимая вещь?
— Чувство юмора не помешает никому вне зависимости от профессии. Что касается преподавания, то да. Какая-то шутка-прибаутка всегда помогает оживить пару. Особенно на первом курсе, когда студентам после школы пока сложно высидеть полтора часа. Плюс я по опыту знаю, что такие вещи как раз лучше запоминаются. Правда порой доходит до смешного, и какой-нибудь студент говорит: «Помню, что вы пошутили. Шутку помню, а о чем она — нет». Хотя шутка как раз и была для того, чтобы человек запомнил этот исторический факт— *смеется*.
Насчет анекдота можно сказать, что для советской культуры он в целом был важной составляющей и выполнял примерно такую же функцию, за которую сейчас отвечает мем. Мем вытеснил анекдот из культурного пространства. Мы сегодня их почти не рассказываем. Поэтому, если мы знакомимся с советской историей, то анекдоты позволяют не только пошутить, но и погрузить в историческую действительность.
— У вас есть любимый советский анекдот?
— Конкретного нет, но я люблю тонкие анекдоты, которые позволяют говорить о достаточно высокой культуре юмора в советскую эпоху. Например, «Брежнев все делал для Галочки» — не сразу поймешь двусмысленность этой шутки. Или «Косыгин при проведении реформы допустил небрежность».
|
Брежневские времена. Выступающий на пленарном собрании говорит: «коммунизм уже на горизонте». Ему вопрос: — А что такое горизонт? — Это воображаемая линия, в которой небо сходится с землей, и которая удаляется от нас, когда мы пытаемся к ней приблизиться. |
|
анекдот, рассказанный Ильей Павловичем на одной из пар. |
— Отличий много. Много возрастных особенностей, разница между пятым и одиннадцатым классами намного больше, чем между первым и четвертым курсом. Вузовский преподаватель априори исходит из того, что он работает с относительно мотивированным человеком, который пришел сюда неслучайно, потому что ему что-то интересно, потому что он уже взрослый и способен сам себя контролировать.
— Это действительно так?
— Конечно нет. Но мы исходим из этого. Потому что в вуз студент приходит все-таки совершеннолетним. Он выбирает специальность. Высшее образование не является обязательным. Поэтому по крайней мере вузовский преподаватель в праве исходить из этого тезиса. В университете педагоги не любят заниматься наведением порядка и дисциплины, в то время как от школьного учителя это требуется. Особенно в классе пятом, когда ребенку нужно объяснять, как должны выглядеть тетрадь по истории, домашнее задание, что у него должно быть на парте.
С моей точки зрения, в некоторых аспектах быть школьным учителем истории намного сложнее, чем работать в вузе. В школе есть разные классы. Может попасться хороший или не очень. Бывает очень хороший, но это уже физмат, где ребята понимают, что ты классный учитель, что история важна, но они нацелены немножко на другое.
— Расскажите, как вы отдыхаете от работы?
—Мой досуг зависит от времени года. Например, осенью начинается сезон грибной охоты. Я грибник со стажем. Вы знаете, это как на работу — каждые выходные за грибами. Причем примерно в одну и ту же точку —все-таки я в свое время защитился по теме консервативного реформизма. Предпочитаю ходить по старым маршрутам.
Лето — это время для активного отдыха. Плюс работы преподавателей в том, что летний отдых относительно длинный. У нас есть замечательное море, которое меня по температуре вполне устраивает. Поэтому лето — это море, велосипеды, пляжный волейбол.
—То есть не сидите дома?
— А зачем сидеть дома, если погода позволяет? Дома нужно сидеть в тусклый февральский выходной в Калининграде с плохой погодой. В длинные зимние вечера я предпочитаю почитать какую-нибудь хорошую книгу. В течение учебного года я читаю научную литературу, а летом для души — художественную.
— Вы могли бы что-нибудь посоветовать из последнего?
— Я бы воздержался от использования слова «советовать». У всех разные вкусы. Поэтому я могу только сказать, что меня зацепило. Я достаточно искушенный читатель, и за последние лет пять на меня произвел впечатление американский писатель Стейнбек и его повести «Заблудившийся автобус» и «Зима тревоги нашей». Я много читал Стейнбека, но эти произведения на меня большее впечатление произвели.
Илья Павлович — большой эрудит и поклонник игры «Что? Где? Когда?». В прошлом он выигрывал чемпионат Калининграда по игре «брэйн-ринг» в 2007, и фестиваль «Янтарная сова» в 2008 и 2012 в составе команды «Мы», а команда школьников «40 грамм», которую тренировал Илья Павлович в 2010—2011 годах входила в топ-10 лучших команд России.
— Вы любите «Что? Где? Когда?». Вы сейчас играете?
— К сожалению, нет. Но мечтаю вернуться. Моя игра закончилась, когда я погрузился больше в семью, потому что игры обычно в выходные или в какое-то вечернее время, когда хочется побыть с семьей. Поэтому, когда подрастающее поколение уже не будет нуждаться в моей опеке, я с удовольствием вернусь в игру.
— Есть кандидаты для команды?
— Я знаком, конечно, с нашей что-где-когдашной тусовкой, поэтому команда всегда найдется.
— Помните ли вы вопрос, который произвел на вас наибольшее впечатление?
— Вы знаете, за тот период, когда я активно играл я прослушал такое большое количество вопросов, что я совершенно не в состоянии, наверное, обозначить. Их очень много. Я ведь не только играл, но и сам писал вопросы, тренировал детские команды. Поэтому для меня это так же сложно, как выбрать любимую книгу. В определенный период моей жизни «Что? Где? Когда?» играло большую роль.

— В начале вы сказали, что ничто не отбило в вас интерес к истории. Как вам кажется, что может его отбить?
— Что угодно. Это может быть неудачная книга, педагог. Гораздо сложнее привить интерес к истории, в первую очередь это задача педагога. Тут мне очень повезло. Моя первая учительница истории — Татьяна Ефимовна Коняхина — была прекрасным педагогом, как-то на родительском собрании она сказала маме, что «ваш сын когда-нибудь будет читать лекции».
Много лет спустя я пришел к ней с цветами и подарил свой автореферат. За чаем мы выяснили, что, оказывается, у нас даже был общий преподаватель — наш замечательный историк Юрий Владимирович Костяшов. А потом я учился на истфаке, где был исключительно сильный педагогический коллектив, я благодарен всем, кто меня учил, но особенно моему научному руководителю: Виктору Владимировичу Сергееву.
Ещё по теме
Личный кабинет для cтудента
Личный кабинет для cтудента
Даю согласие на обработку представленных персональных данных, с Политикой обработки персональных данных ознакомлен
Подтверждаю согласие